|
DOI: 10.7256/2454-0625.2022.7.38420
EDN: AYIZOD
Дата направления статьи в редакцию:
11-07-2022
Дата публикации:
01-08-2022
Аннотация:
Анализ становления античного театра автор связывает с формированием в древней Греции искусства, театральной коммуникации (в том числе, позиций автора, артиста и зрителя), театра как особого пространства, осознанием искусства и природы древнегреческой драмы в «Поэтике» Аристотеля. В культуре нового времени античный канон театра устанавливается заново, поскольку древнегреческие произведения переосмысляются с точки зрения отношения к средневековому наследию и социальной реальности становящегося нового времени. Новая социокультурная ситуация предопределила три важные следствия для театра: во-первых, кардинально изменяется содержание историй, которые пишут драматурги, во-вторых, меняется зритель, в-третьих, начинается бурный рост театров в складывающихся национальных государствах. Эти новации иллюстрируются на примере французский театр времен Людовика XIV и Расина. Во второй половине XIX, начале XX столетия складывается режиссерский театр. Режиссер рассматривает артиста как одно из «выразительных средств» наряду с другими (музыкой, декорациями, театральной одеждой, символикой и пр.). Автор выдвигает предположение, что на режиссерский театр оказала влияние рефлексия музыки. В режиссерском театре артист не исчезает, как утверждает Кугель, а напротив, он создает напряженное поле смыслов, общения и действий; пока артист на сцене сохраняется исходное, идущее ее от архаических времен и религии, общение зрителей и творцов произведений искусства. Проблемы, встающие в режиссерском театре, обсуждаются на примере театральной постановки «Евгений Онегин», которую осуществил Римас Туминас. В заключении обсуждается документальный театр и театр соучастия. В обоих случаях театр остается театром: спектакль держится за счет игры актеров, создается второй, полноценный мир художественной реальности, хотя зрители принимают участие в конституировании происходящего, они, тем не менее, одновременно остаются зрителями, наблюдая и переживая возникающие с их участием события.
Ключевые слова:
театр, зритель, автор, режиссер, постановка, искусство, художественная реальность, понимание, текст, интерпретация
Abstract: The author connects the analysis of the formation of the ancient theater with the formation of art in ancient Greece, theatrical communication (including the positions of the author, artist and viewer), theater as a special space, awareness of the art and nature of ancient Greek drama in the "Poetics" of Aristotle. In the culture of modern times, the ancient canon of the theater is being established anew, since ancient Greek works are being reinterpreted from the point of view of the relationship to the medieval heritage and the social reality of the emerging new time. The new socio-cultural situation has predetermined three important consequences for the theater: firstly, the content of the stories written by playwrights is radically changing, secondly, the audience is changing, and thirdly, the rapid growth of theaters in emerging national states begins. These innovations are illustrated by the example of the French theater of the times of Louis XIV and Racine. In the second half of the XIX, the beginning of the XX century, the director's theater was formed. The director considers the artist as one of the "expressive means" along with others (music, scenery, theatrical clothing, symbols, etc.). The author suggests that the director's theater was influenced by the reflection of music. In the director's theater, the artist does not disappear, as Kugel claims, but on the contrary, he creates a tense field of meanings, communication and actions; while the artist on stage retains the original, coming from archaic times and religion, communication between the audience and the creators of works of art. The problems that arise in the director's theater are discussed on the example of the theatrical production "Eugene Onegin", which was carried out by Rimas Tuminas. In conclusion, the documentary theater and the theater of complicity are discussed. In both cases, the theater remains a theater: the performance is maintained by the actors' play, a second, full-fledged world of artistic reality is created, although the audience takes part in the constitution of what is happening, they, nevertheless, remain spectators at the same time, observing and experiencing events arising with their participation.
Keywords: theatre, viewer, author, director, performance, art, artistic reality, understanding, text, interpretation
Современный театр находится в движении: критикуется и переосмысляется традиционный драматический театр, развивается дальше театр, в котором правит бал режиссер, идут поиски новых форм театра («документальный театр», «иммерсивный», «инклюзивный», «социальный» и др.). «Театр меняется, ‒ пишет Римас Туминас, ‒ но до сих пор еще не изменился. Каждые пять-шесть лет он переживает какие-то изменения, люди театра находятся в постоянном поиске» [26]. «Мне кажется, ‒ замечает художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина, ‒ самое важное ‒ поменять представления людей о том, что такое театр. Даже у театральных людей, профессионалов эти границы очень жесткие, театр пытаются оберегать от вмешательства извне»[5]. В связи с этой ситуацией вспоминаю статью известного режиссера и театрального критика начала прошлого столетия Александра (Авраама) Кугеля «Утверждение театра» [12], в которой он обсуждает кризис и трансформацию театра 20-х годов. Эту статью можно взять для проблематизации также и современной ситуации. Кугель, ненавидивщий Московский драматический театр, выступает апологетом традиционного театра, сущность которого он видит в игре артиста (лицедействе), страстно критикует режиссерский театр, как несущий, по его мнению, театру гибель в силу диктата драматурга, властных поползновений режиссера и, как следствие, сведения роли артиста к нулю.
«Театр, ‒ пишет Кугель, ‒ как игра, существующий с самых древних времен у всех народов эмпирически, отвечает потребности человека в лицедействе. И всякий театр, отходящий от лицедейства и от движения в его художественном значении, делает не театральное, и потому совершенно ненужное дело <…>
Законы театра суть законы актера. <…> Айхенвальд полагает, что театр портит литературу, мы же полагаем, что литература портит театр… Театр олитературен ‒ в этом первая причина упадка театра. <…>
нынешний театр отучил нас плакать и смеяться в театре, отучил нас получать в театре потрясения, породил школу, которая все умствует, да умствует, да разыскивает “элементы”, а потрясти не может»…Театр, как таковой, прост до нельзя: растрогайте меня или рассмешите. Театр, не способный вдохновить, не доводящий зрителя до некоего транса, не выполняет своего назначения…Сложнее стали чувства, но это не меняет сущности театрального впечатления: оно не в созерцании или наблюдении, а в пароксизмах. <…>
что мы видим в театре сейчас? Пьеса раздроблена между многими действующими лицами. К этим действующим лицам надо присоединить целый ряд театральных техников. Конечно, без соподчинения этих элементов, кроме какофонии ничего не выйдет. Отсюда необходимость «сильной власти» режиссера, который требует, и по праву, чтобы все было проникнуто его идеей, его пониманьем, его настроением. При этих условиях, актерское творчество не может не падать… По нынешнему пути все большей и большей сложности, все большого дробления, ‒ актеру угрожает смерть. Это ясно. <…>
Театральное искусство тем и отличается от других искусств, что оно есть полное выявление человеческого “я” по отношению к миру. В то время, как все прочие искусства имеют дело с миром, вообще, с его формами и его назиданием, театральное искусство имеет дело только с человеком, ибо самая форма этого искусства, орудие его, инструмент есть человек, т. е. актер. Все, что вошло в театр из других форм искусства, может быть прекрасно, но оно, в сущности, мешает цели театра, потому что препятствует нам слышать чистую мелодию человеческой души» [12, c. 7, 8, 9, 11, 14, 22, 23].
О каком театре здесь пишет Кугель? С одной стороны, о современном ему театре 20-х годов, где явно выросла роль режиссера, с другой ‒ о классическом театре, идеалом которого для Кугеля выступает Шекспир. «Для меня, ‒ замечает он, ‒ Шекспир — наиболее убедительный, никем не превзойденный образчик верности основам театральной работы и особо искусного комбинирования поэзии и жизни с законами театральных масок <…> Шекспир есть театр, и театр есть Шекспир» [12, с. 14, 16]. Кроме того, Кугель пытается ответить на вопрос, в чем специфика театра как вида искусства: в лицедействе актера (что отчасти верно), в «полном выявление человеческого “я” по отношению к миру», в сильных переживаниях (но разве произведения других видов искусства не выявляют человеческое «я» и не должны вызывать сильные переживания?).
Например, Л.С. Выготский считал сильные переживания (катарсис) признаком любого искусства, а не только театрального. «Мы, ‒ писал он в «Психологии искусства», ‒ могли бы сказать, что основой эстетической реакции являются вызываемые искусством аффекты, переживаемые нами со всей реальностью и силой, но находящие себе разряд в той деятельности фантазии, которой требует от нас всякий раз восприятие искусства… На этом единстве чувства и фантазии и основано всякое искусство. Ближайшей его особенностью является то, что оно, вызывая в нас противоположно направленные аффекты, задерживает только благодаря началу антитезы моторное выражение эмоций и, сталкивая противоположные импульсы, уничтожает аффекты содержания, аффекты формы, приводя к взрыву, к разряду нервной энергии. В этом превращении аффектов, в их самосгорании, во взрывной реакции, приводящей к разряду тех эмоций, которые тут же были вызваны, и заключается катарсис эстетической реакции» [6, с. 247].
В целом критика Кугелем режиссерского театра, так же как анализ специфики театра не очень убеждают, и вот почему. Кугель предполагает, что он проник в сущность театра, которая неизменна, то есть театр во все времена равен сам себе ‒ в центре театра артист, роль драматурга (автора) вторична, тем более, вторична, а иногда даже разрушительна, роль различных организаторов (толкователей и менеджеров) театрального процесса (прежде всего, режиссеров). Но, как известно, театр в разные эпохи был очень различным, он изменялся во времени, а при переходе от одних культур к другим трансформировался кардинально.
Античный театр. Здесь впервые складывается сфера искусства, отличная от других областей жизни (работы в широком понимании, религии, отдыха). Для искусства характерна определенная свобода времяпрепровождения, общение, возможность наблюдать и обдумывать происходящее. В рамках этой сферы формируются две группы ‒ знатоки искусства (аудитория зрителей, слушателей, позднее читателей) и творцы ее произведений (авторы). Если иметь в виду конкретно предпосылки театра, стоит обратить внимание на то, что знатоки театрального действия сначала представляли собой отдельных индивидов, со временем − сообщество (например, граждане античного полиса или города), и как сообщество вырабатывали единое отношение к театру, драматургам и артистам.
Именно в античности формируется характерная для театра коммуникация, предполагающая, с одной стороны, визуальный контакт зрителей с артистами (сначала их было всего один, два-три), особое пространство театра (сцена, ряды для зрителей, изоляция от внешнего шума и пр.), с другой стороны, двухчастное взаимодействие ‒ автор пишет «нарратив-историю» (драму, комедию и пр.), которую он адресует артисту (первоначально в его роли мог выступать сам драматург), артист играет это произведение перед зрителем. Важно, что со временем артист специализируется для выполнения своей деятельности, постепенно становится мастером, профессионалом. В театральной коммуникации все три субъекта (автор, артист и зритель) понимали, о чем идет речь, поскольку принадлежали одному сообществу, имели общее видение реальности. Это видение по содержанию было двояким: или история автора касалась взаимоотношения людей с богами, как правило, представленных в мифах, или рассказывалось о стандартных или, наоборот, необычных поступках людей. Например, Эсхил в истории об Оресте повествует, как может поступить человек, осознавший себя личностью (то есть действующий не по традиции, самостоятельно, отчасти идущий против общества).
«Зевс, ‒ пишет Анатолий Ахутин, анализируя Орестею Эсхила, ‒ ставит Агамемнона в ситуацию чисто трагической амехании (то есть невозможности действовать в условиях необходимости действовать. – В.Р.). Услышав из уст Кальханта волю Артемиды, Агемемнон погружается в размышление: “Тяжкая пагуба – не послушаться; тяжкая пагуба и зарубить собственное свое дитя, украшение дома, запятнав отцовские руки потоками девичьей крови, пролитой на алтаре. Как же избегнуть бедствий?!” Именно это, а не хитросплетение судеб само по себе интересует трагического поэта и зрителей: как человек решает, толкует оракулы и знамения, приводит в действие божественную волю, что с ним при этом происходит и как он “впрягается в ярмо необходимости” [3, с. 25].
В сходной ситуации амехании оказывается и сам Орест, вынужденный убить собственную мать. “В этом месте, которое уже не будет пройдено, в эту минуту, которая уже не пройдет, все отступает от него: воли богов и космические махины судеб как бы ждут у порога его сознания, ждут его собственного решения, которое никакой бог не подскажет ему на ухо и которое приведет в действие все эти безмерно превосходящие его силы” [3, с. 35]. Решение убить свою мать “принимается Орестом потому, что только так он может вырваться из слепых обуяний – яростью ли гнева, паникой ли страха – в светлое поле сознания. ′Он поступает так, как должно, ‒ замечает Б.Отис, ‒ но, поступая так, он не утверждает, что поступает хорошо, он не впрягается в ярмо необходимости. Он действует с открытыми глазами и бодрствующим сознанием′” [3, с. 33].
В третьей части трилогии зритель входит в “мир разбирательства, осмысления, в мир ′логоса′ (боги, собравшиеся, чтобы осудить Ореста, не могут прийти к общему мнению и поэтому оставляют поступок героя на суд людей. ‒ В.Р.)…амехания “не столько преодолевается, сколько обретает осмысленную форму суда, учрежденного навеки, иначе говоря, суда, раскрываемого как вековечное основание человеческого и космического бытия. Отныне ничто не может быть раз и навсегда таким-то. Все подсудно, подочетно, ответственно” [с. 39].
Наконец, Ахутин поясняет, почему в данном случае театр и суд. “Герой, попавший в ситуацию трагической амехании, как бы поворачивается, поворачивается к зрителю с вопросом. Зритель видит себя под взором героя и меняется с ним местами. Театр и город взаимообратимы. Театр находится в городе, но весь город (а по сути, полис, античное общество. – В.Р.) сходится в театр, чтобы научиться жизни перед зрителем, при свидетеле, перед лицом. Этот взор возможного свидетеля и судьи, взор, под которым я не просто делаю что-то дурное или хорошее, а впервые могу предстать как герой, в эстетически завершенности тела, лица, судьбы – словом, в ′кто′, и есть взор сознания, от которого нельзя укрыться. Сознание – свидетель и судья – это зритель. Быть в сознании – значит быть на виду, на площади, на позоре» [3, с. 20-21] [17, с. 72-73].
Этот пример позволяет понять еще одну важную вещь: театральная история составляется из своеобразных атомов (клеточек): сначала задается «ситуация» (позднее она иногда назвалась «положением»), затем следует сценичный ответ на эту ситуацию (разрешение проблемы, ответ, отклик); сценичный в том смысле, что этот ответ играется актером, видим и переживаем зрителем.
Условия античной театральной коммуникации, как известно, обусловили игру артиста в маске, именно маска указывала зрителю тип истории, которую собирается играть и играет артист (в Риме сначала играли без масок, но потом их тоже ввели [16; 25]).
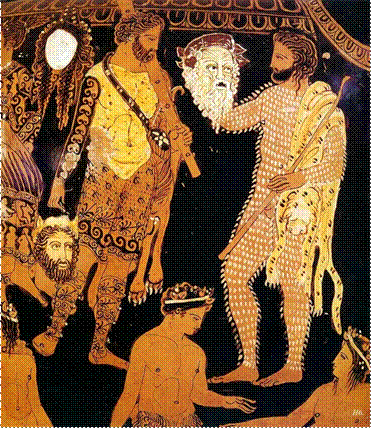
Изображение на вазе эпизода из комедии «Лягушки» Аристофана
Может показаться, что Кугель преувеличивает роль лицедейства в театре, ведь, например, античный артист скрывался под маской. Однако для настоящего артиста маска не замещает игру, это всего лишь одно из выразительных средств, наряду с голосом, интонацией, движением, жестами, костюмом, передаваемой зрителю энергией и еще тем, что можно назвать тайной подлинной артистической игры. Войдя в роль, артист исчезает для зрителя как обычный человек и является как герой театрального нарратива.
Поскольку типов театральной истории в античности было счетное число, все субъекты театральной коммуникации были определены и понимали друг друга, античная театральная практика устойчиво воспроизводилась несколько веков, постольку можно говорить об «античном каноне театра». Воспроизводство античного канона театра стало возможным после «Поэтики» Аристотеля. В ней не только была осмыслена и нормирована сложившаяся художественная реальность античной драмы, но и найдено место искусству, и следовательно косвенно театру, в системе знаний о мире. Искусство, по Аристотелю, это созданная мастером реальность, очень похожая (отношение «подражания») на обычный мир, но берущая его в отношении возможного существования. В «Поэтике» намечены и первые сущностные характеристики театральной реальности (игра актера, как действие, демонстрирующее характер и мысль героя).
«Эпос и трагедия, ‒ пишет Аристотель, ‒ а также комедия, дифирамбическая поэзия и большая часть авлетики и кифаристики ‒ все они являются вообще подражанием» [с. 646]. «Например, Гомер изображал своих героев лучшими, Клеофонт похожими на нас, а Гегемон Тазосский, составивший первые пародии, и Никохар, творец “Делиады”, ‒ худшими» [2, c. 648]. «Из сказанного ясно, что задача поэта ‒ говорить не о происшедшем, а о том, что могло бы случиться, о возможном по вероятности или необходимости» [2, c. 655]. «Итак, трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему [определенный] объем, [производимое] речью, услащенной по-разному в различных ее частях, [производимое] в действии, а не в повествовании и совершающее посредством сострадания и страха очищение (katharsis) подобных страстей <…> Далее, так как [трагедия] есть подражанию действию, а действие совершается действующими лицами, которые необходимо должны быть каковы-нибудь по характеру образу мыслей, то естественно являются две причины действия ‒ мысль и характер…» [2, с. 651-652].
Интересно, что Кугель отрицает идею подражания, на его взгляд, театральная реальность ‒ это самостоятельная область жизни, хотя и идеальная. «Искусство, будучи идеальным в своем существе, не имеет и не может иметь других форм выражения, кроме идеальных. Все то, что проявляется при помощи обыденной конкретности, не есть искусство. Мало того, оно и неуловимо в такой форме. Воспринимает и претворяет воспринимаемое в впечатление искусства наш дух <…> эстетическая предпосылка кинематографического искусства заключается в том, что по самому техническому приему своему кино дает мир отраженный. Пусть это грубое отражение мира, ‒ но отражение. Тогда как театр стремится быть самим {189} миром, вещностью, телесностью, и в этом направлении наибольшей телесности сценического мира протекает работа театрального совершенствования» [12, c. 38, 120].
В такой оценке кинематографа все зависит от его понимания и использования: кино, которое делается как искусство, не менее искусство и «сама жизнь», чем театр. Но и театр может использоваться в прагматических, инструментальных целях, например, для воодушевления масс, настройки их на определенное социальное действие.
Собственно говоря, мы здесь схематично охарактеризовали античный канон театра.
Театр Нового времени. В культуре нового времени античный канон театра устанавливается заново, заслуга в этом гуманистов, которые переводят на латынь и формирующиеся национальные языки древнегреческие тексты. Заново, поскольку эти произведения переосмысляются с точки зрения отношения к средневековому наследию и социальной реальности становящегося нового времени. Это отношение было обусловлено критикой сословного общества, реформированием католической религии, перемещением интереса с задач христианского спасения на земные реалии и проблемы, становлением новых несословных сообществ (3-е сословие, купцы, горожане, ремесленники, слуги и др.), формированием новоевропейской личности, понимающей себя как творца внешней реальности и своей персоны.
Новая социальная и культурная ситуация потребовала и новое «зеркало» для общества и «окно» в открывающийся новый мир. Эту потребность могло решить, прежде всего, искусство, в котором главную роль сыграл театр. Показательный пример, расцвет театра в Англии, начиная с конца XV столетия.

Театр времен Шекспира
«Спрос на пьесы был таков что драматурги, несмотря на свою многочисленность, едва поспевали. Чем же обусловливался такой необычайный расцвет драматургии в елизаветинское время? Найти объяснение этому удивительному факту пытались много раз. Самым простым и самым глубоким из них является то, которое принадлежит академику Александру Веселовскому и дано в его книге "Поэтика".
На вопрос, в чем заключаются условия “художественного обособления драматической формы и ее популярности”, А. Н. Веселовский отвечает: “Развитие личности и громкие события народно-исторического характера”. Сопоставляя Италию с Англией, он говорит: “Если Италия не произвела драмы, то потому, что таких именно событий она не пережила”. “За греческой, английской и испанской драмой стоят: победа эллинизма над персидским Востоком, торжество народно-протестантского сознания, наполняющее такой жизнерадостностью английское общество эпохи Елизаветы, и греза всемирной испанской монархии, в которой не заходит солнце” <…> театр сделался рупором нового восприятия жизни, в котором соединялись материальная обеспеченность и избыток у богатых, смягчение нищеты у трудящихся, огромный оптимизм у всех. Это требовало нового языка и подсказывало новые слова. Театр стал местом, где эти новые слова зазвучали так, что их услышали и поняли все. Ибо они лишь давали выход тому, что все успели почувствовать сами. Театр стал ежедневной газетою для неграмотного в большинстве народа» [10].
Новая социокультурная ситуация предопределила три важные следствия для театра. Во-первых, кардинально изменяется содержание историй, которые пишут драматурги, во-вторых, меняется зритель, в-третьих, начинается бурный рост театров в складывающихся национальных государствах.
Авторов драм и комедий интересуют теперь отношения между людьми, их поступки. Истории любви, возвышения и падения, обмана и предательства, взаимоотношения господ и слуг, поступки человека, меняющие его судьбу ‒ эти и сходные земные, касающиеся людей события описываются в драмах и комедиях. Осознание назначения таких историй выражается в идеях показа «характера», «типа», «душевных движений».
«Форма театрального искусства, − отмечает Кугель, − всегда была и есть, и пребудет одна: изображение душевных движений трагических героев; что все остальное есть вопрос удобства, техники и привычки, но ни как не основа искусства» [12, c. 40]. «Что же представляли собою образы, которые Шекспир показывал народу? Пушкин сказал, все еще размышляя о своем “Годунове”: “Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении типов”» [8].
Зритель нового времени совершенно не похож на античного: и своими земными интересами и социальным статусом ‒ это совершенно разные типы (например, во Франции ‒ аристократы, представители третьего сословия, первые интеллектуалы, окончившие университеты, горожане, купцы, ремесленники, торговцы, слуги и др.). Другая различительная линия проходила по границам формирующихся наций. Новое время ‒ время формирования в Европе национальных государств, в рамках которых складывались большие «национальные аудитории» зрителей. Как следствие ‒ европейский театр бурно размножается, создаются национальные театры в Англии, Франции, Италии, Германии, России и других странах. Они существенно отличаются между собой: драматургами, зрителями, историями, театральными канонами. Рассмотрим для примера французский театр времен Людовика XIV и Расина.
«Начало деятельности Расина (1639-1699) совпало с наиболее прогрессивным этапом царствования Людовика XIV. Тревожные годы Фронды были позади ‒ принцы крови и парламент окончательно присмирели. Молодой король после смерти кардинала Мазарини (1661) стал полноправным властителем… Культ короля был повсеместным: его боготворило дворянство, жившее на счет государственного казначейства; его любила буржуазия, видевшая в централизованной власти залог процветания экономики страны; на короля с надеждой смотрел народ, тщетно ожидавший от молодого монарха облегчения своей горькой участи; и, наконец, в добрую волю короля искренне верили многие мыслители и художники, полагавшие, что этот молодой человек, в меру разумный и расточительно любезный, со временем может стать истинным олицетворением просвещенного и гуманного правителя» [9].
Одновременно время Людовика XIV ‒ это абсолютизм королевской власти и первый период становления французской нации. Людовик, прозванный «Королем Солнца» обожал театр и танцы. «Он явно ощущал себя Богом и хотел, чтобы и его подданные видели в нем Бога. Думаю, на это накладывался и образ-идеал человека Возрождения, считавшего, что, если он захочет, то сможет стать и херувимом (ангелом)… Но как мыслился Бог? Он являлся своим подданным, ослеплял их своей красотой и величественностью, демонстрировал жизнь и деяния, совершив которые торжественно уходил. Ниже его достоинства было повернуться к зрителям спиной, склоняться перед ними, вообще действовать как все, обычно. Напротив, каждое его движение должно быть наполнено красотой и выразительностью.
Это был тот антропологический образ и идеал, который, судя по свидетельствам современников, овладел юным Людовиком. При этом он понимал, что живет не на Олимпе и хотя королевская особа, но все же человек. Эта коллизия и проблемная ситуация разрешается Людовиком за счет, с одной стороны, искусства, с другой ‒ перезапуска телесности (он ставит и исполняет танцы, в которых чаще всего выступает в роли Олимпийских богов, и каждый день тренируется, обучаясь новым движениям и позам). Именно здесь начинает складываться (изобретаться) “телесный канон”, о котором пишет Михаил Фокин (“ноги должны соблюдать пять позиций и все движения должны заключаться в комбинации этих позиций и ею ограничиваться; руки должны быть закруглены, с отодвинутыми в сторону локтями; лицо должно быть обращено к публике, спина должна быть прямая, ноги выворочены в сторону, пятками вперед” [1, с. 3, 9]), и позднее более сложный его вариант с образами полетности, невесомости и акробатичности. Боги и херувимы являются и удаляются, парят, демонстрируют прекрасные лики и фигуры, совершают деяния, как правило, изложенные в мифах и изящной литературе.
Создавая новый вид танца, Людовик XIV, Король-Солнце вместе со своими помощниками (мы бы сегодня сказали, постановщиками танцев и спектаклей) нащупали целый ряд новых художественных средств (музыка, костюмы, декорации, сцена и др.), помогающие собрать новые образы тела и движения в единое целое («художественную реальность»). Особенно здесь интересна роль музыки, которую писали известные композиторы, например, Люлли. Как временное искусство музыка позволяла организовать во времени и темпорально связать новые единицы и гештальты телесности. Как музыкальные события, свободные от конкретных предметных ассоциацией, выражать (задавать, оп
|




 Cn
Cn

